От редакции: Пользователи соцсетей и авторы рассылок ежедневно заявляют, что «никакого коронавируса нет» или, что это всё хитрый «план тайного мирового правительства». И это отрицание, на наш взгляд, лишь увеличивает угрозу. Наша коллега, российский фактчекер Таша Соколова, уже второй месяц волонтёрит в московской коронавирусной больнице и мы попросили её описать опыт изнутри больницы и процесса лечения. Ниже — вторая часть дневника. (Начало — здесь.)
Имена, возраст и ряд диагнозов опущены, с целью сохранения врачебной тайны, истории сохранены из уважения к умершим.
Приходишь утром в больницу. Дежурная смена докладывает, каких-то фамилий больше не слышишь…
Вначале думаешь, что не расслышала, что устала, ведь полночи дописывала прошлую часть дневника. Потом ещё отчаянно надеешься — да, они не состоят больше в отделении, но вдруг перевели в реанимацию, и там им станет лучше. Но нет, старший смены говорит: «острый респираторный дистресс-синдром», «оторвался тромб, кажется», «внезапно ухудшилась, даже реаниматолога не успели вызвать».
История Н.
Сегодня я готовила пациентку к выписке. Н. поступила довольно тяжелой, было трудно дышать, почти всё время на кислороде. Очень красивое скандинавское имя. Говорила тяжелым тихим полухрипом-полустоном. Я приходила и смачивала ей губы, поправляла подушки, иногда просто держала тонкую руку всю в кровоподтеках от катетера.
Где-то спустя неделю после поступления она вначале попросила помочь ей сесть, а затем, немного смущаясь, спросила, не могу ли я причесать ее и заплести волосы в косу. У неё были густые пепельно-седые волосы. Причесала и заплела «колосок», те пять минут, что я плела, её утомили, и я помогла лечь обратно. Но с этого дня всегда находила в смене время зайти и обновить прическу. А в конце прошлой недели я зашла — ее волосы были заплетены в косу и уложены вокруг головы, кажется, такая прическа называется «каравай». «Видишь, я уже и сама все могу» — похвасталась мне Н.
Потом она помогала своей соседке по палате — давала воду, поправляла подушки, смеялась, что если бы не годы, то сама бы пошла волонтёркой после выздоровления. И вот утром врачи сообщили мне, чтобы я готовила её к выписке. Как только она поступила к нам, я помогала ей позвонить сыну. Потом моя помощь перестала быть нужна. А сегодня Н. сама позвонила и почему-то передала телефон мне. «Я знаю, что мою маму сегодня выписывают. Вы помогали ей во время болезни, и мы с женой и сыном очень вам благодарны. Она нам много рассказывала о вас. Мы её очень ждем. Приготовили её любимые пирожки с капустой. Ей ведь можно?». — «Можно, можно» — смеюсь в трубку. Потом помогаю ей уложить вещи, остается только дождаться санитарного такси. Ждать нужно в палате, когда оно приезжает, нам на этаж звонят, и мы провожаем пациента до приёмного покоя.
Пока такси не было, я успела проверить все актуальные данные о пациентах, помочь «зарядить» капельницы, измерить сахар, вколоть инсулин, раздать обеденные таблетки и сделать ингаляции нескольким пациентам. Последней, кому была назначена ингаляция, была как раз соседка по палате той, кому сегодня нужно было выписываться.
Я зашла в палату, «всё еще не приехали за вами?». Н. сказала что-то совсем невнятное. Вместо обычной теплой улыбки на лице была однобокая ухмылка, наружный уголок левого глаза опустился. «Ыыы-ааа-ыы» — попыталась она что-то сказать. Я выбежала из палаты, бегом до конца коридора в ординаторскую. «Н. плохо!». (так, соберись, ты же можешь сказать все правильно) «Пациентка из 21 палаты — нарушена речь, искажена мимика левой половины лица». — «Так она же уже на выписку» — уже на бегу к палате удивилась её лечащий врач. Н. встретила нас повторным «Ыыы-аа-оо», в её интонациях слышалась боль. Врач быстро осмотрела её и кивнула мне, застывшей в дверях. Слова тут лишние. Снова бег до ординаторской, меня ждут вопросительные взгляды. Киваю. Завотделением командует в телефонную трубку: «Срочно. Реанимацию. 521. Подозрение на инсульт».
Прибегают. Двое сразу в палату (видимо, врачи, отмечаю я в голове). Третий берёт ближайшую каталку и толкает в сторону палаты. Помогаю. Останавливаемся в дверях. «Н., дорогая, держитесь. Вам же там пирожки с капустой приготовили» — молюсь я. Реаниматологи действуют слаженно, перебрасываются короткими звучными командами. Кажется, они читают мысли друг друга. Дел много, но я стою по-прежнему в дверях. Врачи переглядываются, останавливаются. Качают головами. Смотрят на наручные часы, поднимая рукав защитного халата. Называют время.
Как во сне, помогаю вернуть ненужную каталку на место. Реаниматологи о чем-то говорят с лечащим врачом Н. Внезапно пищит их рация. На бегу кричат — «мы напишем и подгрузим в систему».
Сижу в ординаторской. Сегодня в документах прочитала, что у пациента наблюдалась «сомнолентность» — лёгкое нарушение сознания, при котором пациент заторможен, однако адекватные реакции могут быть вызваны при помощи кратковременных внешних раздражителей. Наверное, у меня что-то похожее. В ушах шумит, ни одну мысль невозможно додумать до конца. «Позвонить ее сыну… пирожки с капустой… видимо, тромб оторвался… Позвонить пирожкам… Тромб с капустой»…
Первая потеря

Это не первый пациент, которого я потеряла. Первой была совсем молодая девушка — M., ей было чуть больше 30. При поступлении ей поставили пневмонию средней тяжести. Обычно я приходила, измеряла температуру, задавала стандартный набор вопросов и уходила. Общаться мы начали, когда я первый раз повезла ее на КТ. Там, на первом этаже, всегда очередь. M. сидела в кресле-коляске и смотрела по сторонам. Вдруг она заговорила.
«А вы смотрели сериал “Неортодоксальная”?».
«Нет пока, но много положительного о нем слышала».
«Я вот очень рекомендую, я вчера все серии посмотрела, очень классный» — поделилась она.
«Я сейчас “Ходячих мертвецов смотрю”», — рассказала я.
«Ой, а какой сезон? Кто из героев вам нравится больше всего?» — засыпала она меня вопросами.
Оказалось, что я только на середине сериала, а она посмотрела его до последней серии. С этого дня я всегда, приходя к ней в палату, рассказывала, насколько я за вечер продвинулась в просмотре.
«А вы любите спойлеры?» — спросила она как-то.
«Да, я всегда предпочитаю знать, что будет в конце».
M. рассмеялась — «а я нет, вот разве хорошо бы было, если бы я точно знала в какой день меня выпишут? А так я каждый день жду заветных слов».
Где-то через неделю ей было назначено повторное КТ, и снова повезла её я. Моя пациентка хорошо себя чувствовала и даже попросила меня нарушить правила и разрешить ей ненадолго встать с кресла-каталки, размять ноги. Прислонилась к стене около кабинета, пока ждали своей очереди. После исследования я её встречала в коридоре, усадила обратно, довезла до палаты и занялась бумажными делами в ординаторской. Зазвонил телефон: «Можете пригласить Н.В.?». Передала трубку, врач нахмурилась, это было видно даже под респиратором и защитными очками. «Ты же M. на КТ возила, как она там?» — обратилась Н.В. ко мне. «Бодро, разговаривали». Н.В. кивнула в сторону двери, «пойдем».
M. лежала лицом к стене, в наушниках. Н.В. окликнула её, легонько потрясла за плечо, затем развернула лицо к себе. Глаза были открыты, но M. уже не дышала. Прибежавшая бригада реаниматологов только констатировала смерть. Н.В. обняла меня за плечи, тайвеки (защитные костюмы из материала Tyvek) зашуршали, мы вышли из палаты. «Позвонили с первого (этажа, там где КТ), сказали, что разрушено почти 90% лёгких. Ей просто нечем было дышать» — тихо поговорила Н.В. закрыла глаза и прислонилась спиной к стене, совсем как M. пару часов назад.
Н., М., мужчина средних лет с красивой восточной фамилией (разрыв селезёнки), дедушка с тонкими прозрачными руками (острый респираторный дистресс-синдром в 6 утра), бабушка, которая всё время звала какую-то Вику (ухудшилась, переведена в ОРИТ, но не спасли), женщина средних лет, она всё время жаловалась, что чай недостаточно горячий (уже больше двух недель в ОРИТе на ИВЛ), бабушка в цветном платке и с мусульманскими четками (реанимация в палате, не спасли)… Целая галерея лиц, имён, фамилий, тонких рук с катетерами и синяками, огромных на пол-лица глаз.
Но от некоторых лиц не оставалось, только воспоминания и рассказы их близких.
Память
Вот А. — она лежит у нас в отделении, а её муж — в другом корпусе. Они созванивались по телефону. Рассказывает, что знакомы с первого класса, после школы поженились и расставались только на то время, что она была в роддоме вначале с сыном, а потом с дочкой. Всё остальное время вместе. В понедельник я зашла к ней, она не говорила по телефону.
Уходя со смены проведала её ещё раз, она обеспокоенно сказала, что муж что-то не берёт трубку. Я предположила, что, может быть, спит. На следующий день стало ещё тревожней — я посмотрела по внутренней системе, в реанимацию его не переводили, но и в отделении он больше не числился.
А. распереживалась, подскочило давление, испугались, что придется поднимать в реанимацию. Передали дежурной смене.
Всю ночь я думала, что же могло произойти, что за сбой такой. Утром в среду рассказала Д.Э., пусть муж А. и не наш пациент, но надо же найти человека. Д.Э. вообще самый умный, самый хороший, он может решить любую проблему. Звонили в отделение, где лежал А.
То не брали трубку, то просили ждать… «Пошли сами», — бросил он мне. Я наверное никогда не слышала, чтобы человек так ругался. Оказалось, что муж А. умер ещё в понедельник, как раз во время смены ночного состава на дневной, а вот посмертный эпикриз до сих пор не написан, в системе он не числился, в отделении не лежал, переведён не был, выписан тоже.
Искала-то его я, человек не до конца освоившийся в системе, — как посмотреть увезённых в морг, не знала, а когда А. стало плохо, она врачам про свои волнения и рассказать не успела.
Сообщали про мужа А. мы вместе, точнее говорил Д.Э., а я только пыталась проглотить комок в горле и гладила А. по руке. На руке поблескивало обручальное кольцо…
В отделение из реанимации перевели К. Руки в синяках, глаза запавшие, на шее — трахеостома. Говорить она могла только, зажимая её рукой. Через какое-то время из хранилища принесли её вещи, ведь в реанимации пациенту ничего из личных вещей не положено. Я помогла их разобрать, найти телефон, поставить на зарядку. В реанимацию К. поступила ещё месяц назад, как забрали из дома на скорой, так сразу в ОРИТ и положили.
К. переживает, как там муж и сын. Успокаиваю, объясняю, что хоть посещения и запрещены, но родственники звонят в справочную больницы или в ординаторскую, и им рассказывают о состоянии пациентов. Предполагаю, что если они звонили вчера или сегодня, то муж с сыном уже знают, что её сняли с ИВЛ и переводят в отделение.
К. очень слаба, и, когда телефон наконец, включается, позвонить сама не может. Я помогаю, нахожу номер мужа в записной книжке. Звоним. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Звоним сыну. Те же слова автоответчика. К. начинает волноваться, предлагаю позвонить кому-то из друзей семьи. «К., родная, ты поправилась — подруга говорит громко, мне всё слышно. — а тебе не сказали? Ничего не сказали? долгая-долгая пауза — Лёша умер 24 апреля, а Слава — 29».
К. кричит на одной пронзительной высокой ноте. Телефон падает у неё из рук.
Потом она расскажет, что когда скорая её увозила, у них обоих не было никаких симптомов. Из истории болезни я узнаю, что сразу после госпитализации её подключили к аппарату ИВЛ, ввели в медикаментозную кому. Потом подруга К. расскажет, в какую больницу увезли её мужа и сына. Позвоню, найду лечащих врачей обоих, узнаю, что произошло. У мужа на фоне лечения тяжелыми препаратами развилась повышенная вязкость крови, образовался тромб. У сына случился отек лёгких.
На следующий день К. отказалась от еды и питья, сказала, что у неё нет причин жить. Жидкость капали внутривенно, перевели на зондовое питание. Она, зажимая отверстие от трахеотомии в шее, просила не лечить её и дать ей умереть. Через пару дней ей снова стало хуже, её вновь перевели в реанимацию. Я ежедневно проверяю её по внутренней системе. Пока она в ОРИТ, а вещи и телефон снова в камере хранения. Эта история пока не окончена.
АПДЕЙТ от 22 мая 2020: К. умерла сегодня утром.
И вот я назвала эту часть заметок «О жизни и смерти», а написала, по сути, только про смерть. Где же тогда жизнь? А жизнь — она не в этом тексте, она в том, что сюда не попало. Жизнь тех, кто ухудшался, но его спасли, тех, кого привозили тяжёлыми, но постепенно они шли на поправку, жизнь тех, за кого боялись вне смены и почти не надеялись увидеть утром, а они упрямо просыпались и засыпали, дышали поражёнными лёгкими и, пусть нескоро, но шли на выписку. Жизнь в них, и жизнь — перед ними. А об Н., М., супруге А., муже и сыне К. — только память. Светлая память.
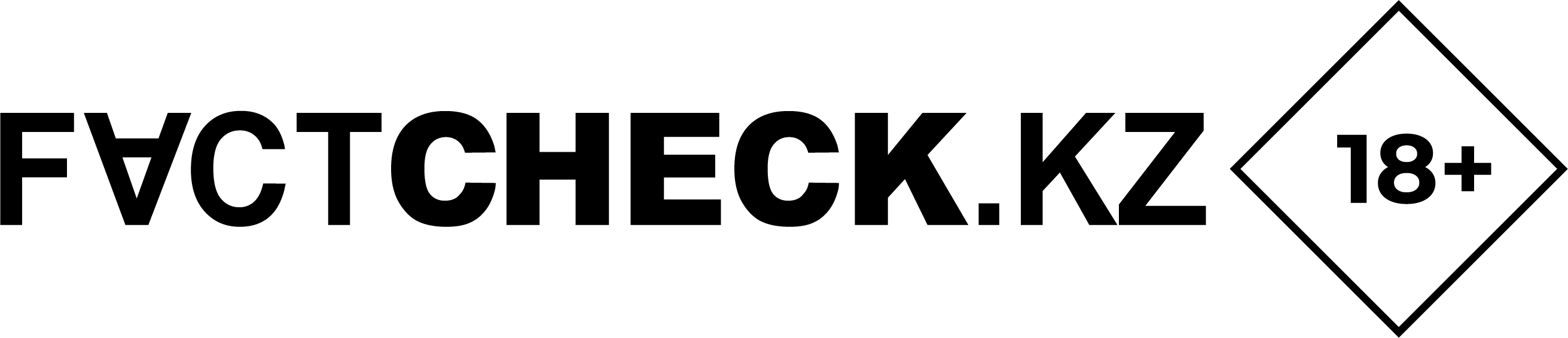




Для того что бы оставить комментарий необходимо авторизоваться.